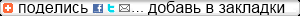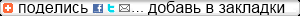|
Христос Пантократор. Икона VI в.
Синайский монастырь святой Екатерины |
В каждом языке есть слова (их немного), которые призваны выражать коренные особенности народного мировосприятия. В первую очередь к числу таких слов относятся обозначения сущности творчества, художественного освоения действительности. Для русских,
например, это образ, для англичан – имидж (image – «представление, воплощение, статуя, икона, изображение, отражение»). Если слово такого
достоинства проникает из одного языка в другой и
начинает теснить свои «туземные»
соответствия, значит, принимающий народ духовно
подчиняется дающему. Если слова при этом еще и сильно
различаются по содержанию, покорение осложняется
изменением, стиранием духовно-нравственных особенностей
слабейшего народа[1].
Английское слово имидж проникло в русский язык в
середине 1980-х годов вместе с перестройкой всего нашего
общества в лучах западного, закатного просвещения. Как
водится на Руси, чужое слово восприняли со смирением,
переходящим у некоторых в подобострастие, а у других
– в настороженное опасение. Слово имидж еще
не вошло в академические толковые словари русского языка,
однако в летучих электронных словарях, а также в
электронных и печатных статьях его уже несколько лет на
все лады толкуют. Преобладающее настроение – принять
слово как неизбежную, быть может, временную, данность,
точно определить его значение и различить в оттенках с
близким (как многим кажется) русским словом образ.
Нынешнее пришествие «имиджа», точнее, его
корневого смысла, установившегося на Западе, стало уже
вторым по счету. Впервые этот корневой смысл получил у нас
некоторое распространение во французской огласовке
(image – «имаж») благодаря
деятельности русских «имажинистов»
(1919–1927), в сообщество которых до 1924 года
входил Сергей Есенин. Это русское художественное течение
возникло «вслед за "имажистами”
европейской и американской литературы»[2].
Современный «имидж», как и в начале XX века
«имаж», стремится к художественно-творческому
освоению всех уровней бытия человека – от искусства
до быта. «Имиджевый» способ творчества видит в
искусстве самое средоточие жизни, а в жизни –
проявления искусства и на этой объединенной почве
жизнетворчества возвышает человека-художника, творца
собственного мира. Основным видом подобного творчества на
русской почве в конце XX века стало создание образными
средствами (пусть и в нарочито упрощенных
«рекламных» проявлениях) облика (имиджа)
какого-либо человека, товара. Творцы имиджей
(имиджмейкеры) считают себя обладателями права и
способности создавать новую действительность, которая
именно действует, хотя бы и обманывая, и позволяет
достигать поставленных целей, в конечном счете
преобразовывать окружающий мир в угоду себе.
Вообще «имиджевая» творческая установка
свойственна мощно развитому художественному направлению,
уходящему в глубь тысячелетий и многообразно проявляющему
себя в разные эпохи. В настоящее время она выражается,
например, в искусстве постмодернизма[3],
несколько ранее – в начале XX века –
выразилась не только у имажинистов, но в не меньшей
мере у футуристов, акмеистов, символистов, а на рубеже
XVIII–XIX веков – в ряде романтических
течений (особенно в близких масонству). Разнообразны
еще более ранние проявления этой творческой установки в
искусстве барокко, Ренессанса, в низовом и потаенном
(связанном с гностическими и каббалистическими
учениями) искусстве Средневековья, в искусстве
эллинизма и множества древних языческих культур.
Общей особенностью «имиджевых» художественных
течений является вера в божественную сущность
художника-творца, в божественное всемогущество его
творческих представлений, мечтаний, вера в истинную и
наивысшую подлинность и действительность плодов такого
художества. Подобное отношение к миру и к себе у
европейских народов еще с дохристианских времен именуется
магией. «Имиджевое» искусство можно
именовать магическим искусством, ведь английское слово
image образовано от того же индоевропейского корня
*маг (*mag), как и греческое (восходящее к
мидийскому) слово магия. Произношению
«имидж» англичане обязаны известной
способности своего языка изменять исконное звучание слов,
даже вопреки сохраненному написанию.
Чтобы понять, каким образом западноевропейские народы в
своем духовном развитии склонились к магическому типу
творчества, необходимо проследить историю индоевропейского
корня *маг (*mag, *magh – с
общим значением «быть в состоянии, быть в силе,
мочь, помогать»[4]).
Наиболее древнее проявление его обнаруживается в
индийских Ведах – священном своде языческого, по
сути магического, ведения древних ариев. Здесь этот
корень образует ключевое не только для Вед, но и для
многочисленных позднейших вероисповедных и философских
учений Индии понятие «майя» (maja,
māyā)[5]
(c переходом «*г» в «й»). В
Ведах оно обозначает божественную творческую силу,
зиждущую бытие, а также сущность всего произведенного
этой силой. Согласно общеязыческим магическим
представлениям, такой мощью способны обладать не только
добрые боги, но и злые, а также люди, овладевшие
сверхчеловеческими божественными способностями (маги,
колдуны). В одном из гимнов богу Индре в мандале I
Ригведы (I: 51) поется: «Колдовскими силами ты
сдул прочь колдунов»[6].
Это можно было бы перевести так:
«Магическими силами ты сдул прочь
магов» (в первоисточнике:
māyābhir– māyino[7]).
От того же корня в общеславянскую эпоху образовалось
*могти (*mogti) и позднейшие его
производные: могу, могучий, мощь,
мощный, мощи, можно, может.
Отсюда же готское magan – «быть в
состоянии», mahts – «мощь»,
др.-в.-нем. magan (совр. нем.
mögen) – «хотеть,
мочь», maht (совр. нем Macht) –
«мощь, сила», греч. михос (дор.
махос) – «средство, способ
помочь»; зенд. maga –
«сила», magavan –
«сильный»; др.-перс. magus (>греч.
магос) – «волшебник, маг»;
др.-инд. maghά-h – «дар,
богатство, могущество»; Maghάvan –
«Могущественный, Щедрый» (о боге
Индре)[8].
Вероятно, к этому же ряду относится имя римской
«великой богини» Майи (Māia) и
название месяца мая, ей посвященного (ближайший
источник: *magiios, родственное с лат.
magnus – «большой,
великий»)[9].
Отсюда же происходят магнат, магистр,
мастер[10].
Собственно магические, потаенные предания объясняют
происхождение магии в полном соответствии с данными
этимологии: «Название: маг происходит от
Maja – зеркало, в котором Брама, по индийской
мифологии, испокон веков видит себя и все чудеса своего
могущества. Оттого образовались слова: magus
(«маг»), magia («магия»),
magic («магизм»), image
(«образ»), imagination
(«воображение») – все как синонимы,
подразумевающие облечение могущества первобытной живой
материи без образа в определенную форму, вид или
существо»[11];
«в новейшей теософии зеркало Maja называется
вечным зеркалом чудес, Девственницей Софиею, вечно
рождающею и вечно девственною»[12];
«первосвященническое царствование» магов
«предшествовало преобладанию Ассирии, Мидии,
Персии. Аристотель утверждает, что оно было даже
древнее основания Египетского царства; Платон считал их
древность мириадами лет. <…> В наше время
большая часть писателей сходится во
мнении, что преобладание магов возникло за 5 тысяч лет
до Троянской войны»[13].
Согласно современным научным представлениям, магическое
вероисповедание в своих коренных особенностях наиболее
ярко проявилось в жизни одного из арийских племен, которое
населяло север Иранского нагорья. Племя считалось
стяжавшим божественное могущество и потому именовалось
племенем магов. В сообществе племен, объединившихся в
Мидийском царстве (ок. 671 до Р.Х.) маги стали жрецами и
хранителями духовных преданий. В течение долгого времени
маги воспринимали родственные веяния халдейских верований
из соседнего Вавилона. В VII веке до Р.Х. они частично
усвоили учение Заратуштры, но не отказались от чародейных
основ своей веры, укорененной в древних арийских
преданиях[14].
Зороастризм запрещал магию, пытаясь очистить от нее
древние языческие представления ариев. В Гатах
Заратуштры маги вообще не упоминаются, а в эпоху
становления Младшей Авесты отношение зороастрийцев к
магам, по свидетельствам древних авторов, в частности
Геродота, было отрицательным[15].
После покорения Мидии Персией (550–549 до Р.Х.)
маги становятся придворными жрецами Ахеменидов (годы
правления – 558–330 до Р.Х.). Персидский
зороастризм смешался с мидийской магией. С 539 года до
Р.Х. – после покорения Вавилона Персией –
учение магов испытывает вторичное воздействие
халдейского чародейства. Освобожденные персами из
вавилонского плена евреи получили возможность пополнить
полученные у халдеев, а раньше у египтян, знания об
искусстве волшебства еще и мидийской по происхождению
магией. Этот уровень смешанного магического знания,
отраженного в еврейской каббале, проник позднее, в
Средние века, в Европу при посредстве арабов,
захвативших Пиренейский полуостров.
Другим, более ранним, проводником магических знаний в
Европу стали греки, соприкоснувшиеся с учением магов во
времена своих войн с Персией в V веке до Р.Х. В восприятии
греков уже утративший чистоту персидский зороастризм
совпал с магией и Зороастр (Заратуштра) стал мыслиться
отцом магии. Еще более мощное и продолжительное
воздействие мидийско-персидской магии греческое сознание
испытало в эпоху эллинизма, после того как Александр
Македонский покорил Персию. С тех пор учение магов
распространилось по всему эллинистическому грекоязычному
миру, воздействуя на верования не только самих греков, но
и других народов арийского и семитского происхождения.
Международный греческий язык усвоил и само слово
маг (др.-перс. magus, греч. магос), а
от греков слово распространилось по всем языкам
европейских народов, начиная с латыни, которая, в свою
очередь, также стала проводником магического влияния.
Вместе с тем следует отметить, что собственно греческое
самосознание в своих основаниях, запечатленных в языке и
выраженных в мифологии, всегда сопротивлялось крайностям
магизма и в конце концов преодолело его с принятием
Христова учения и утверждением Православия.
По Рождестве Христовом распространение магии среди
западноевропейских народов осложнилось (но отнюдь не
пресеклось) евангельским благовестием. В греческом
первоисточнике Евангелия от Матфея (2: 1–12) маги (в
славянском переводе волсви –
«волхвы») упоминаются непосредственно в связи
с Рождеством Христовым, причем в положительном смысле: они
первыми сподобились постичь значение таинственного
Младенца и пришли «поклонитися Ему», а Бог в
знак своего благоволения посылал им откровения –
посредством звезды и сна. В этом месте Евангелия
символически выразилась общая установка христианства на
мистически-благодатное преображение ветхого человека в
нового. Тем самым была допущена и возможность
качественного изменения магического сознания: обращение
магов в христианство, их преображение в христиан. Начало
такого преображения как раз и отобразилось в Евангелии от
Матфея.
Однако в ходе западноевропейской истории стало происходить
нечто противоположное: магия, не меняя своих коренных
установок, стала проникать в христианское вероисповедание
и в обрядность, лишь по видимости христианизируясь.
Прообраз подобного проникновения магии в среду
христианства также дан в Евангелии. В Деяниях апостолов
говорится о том, как знаменитый маг, основатель гностики
Симон, попытался сблизиться с учениками Христа (см.: Деян.
8: 9–24). Сам Симон считал себя божеством, то есть
носителем божественной силы, и многие непросвещенные люди,
окружавшие апостолов, так же думали о нем,
«глаголюще: сей есть сила Божия великая»
(Деян. 8: 10). Симон признал духовную силу апостольского
учения, превосходящую его собственную магическую силу.
Чтобы овладеть этим дополнительным могуществом, он даже
крестился, однако попытался приобрести за деньги власть
передавать людям благодать Духа Святого, то есть власть
над Богом, как он сам это вполне в магическом смысле
понимал, не ведая, что человек не властен над Богом и что
благодать Духа даруется лишь смиренным и достойным.
Апостол Петр тут же указал Симону на его роковую ошибку:
«Сребро твое с тобою да будет в погибель, яко дар
Божий непщевал еси сребром стяжати… Сердце твое
несть право пред Богом. Покайся убо о злобе твоей сей, и
молися Богу, аще убо отпустится ти помышление сердца
твоего» (Деян. 8: 20, 22). Маг поначалу испугался и
даже христианским образом покаялся: «Отвещав же
Симон рече: помолитеся вы о мне ко Господу, яко да ничтоже
сих найдет на мя, яже рекосте» (Деян. 8: 24).
Однако, согласно преданию, покаяние оказалось непрочным.
В память об этом случае все последующие попытки приобрести
духовную власть и силу (в конечном счете –
божественное могущество) какими-либо доступными человеку
средствами (особенно деньгами) стали именовать симонией.
Данное явление особенно распространилось на христианском
Западе.
Даже в Средние века, в эпоху расцвета западного
христианства, магия различными путями проникала в
католическое богословие, в окормляемую церковью
университетскую науку, в духовную жизнь монастырей.
Достаточно вспомнить прославившихся в XIII веке
монаха-францисканца, профессора Оксфорда Роджера Бэкона и
епископа Ратисбонского Альберта Великого, учителя Фомы
Аквинского. «Предуведомление» к «Малому
алхимическому своду» Альберта начинается
умозаключением, которое служило западным богословам
обычным оправданием любых магических изысканий: Господь
«есть сокровищница всякого знания. Он есть
сокровищница всей мудрости. Вот почему "все сущее
– от Него, через Него и в Нем”; без Него ничто
не может быть сделано, без Него ничто не может быть
совершено»[16].
Таким образом получали оправдания любые магические
разыскания, в частности алхимия. Укоренившись в
средневековых университетах и монашеских орденах,
магическое сознание усвоило древнеримское должностное
звание магистра (magister –
«начальник, глава, учитель») для вождя
ордена или же руководителя научных изысканий (через
лат. magis – «больше, сильнее»
– это слово восходит к древнему индоевропейскому
корню *маг, означающему могущество).
В кругах своих многочисленных приверженцев магия считалась
своего рода искусством, высшим из искусств, а все частные
искусства так или иначе воспринимались как проявления
магии. Поэтому само искусство, его творческая сила и
произведения стали именоваться выражениями, производными
от корня *mag.
 |
| Энди Уорхол. Мэрелин Монро |
По ходу европейской истории выяснилось,
что наиболее склонными к восприятию магического
представления о творчестве стали европейские народы,
связанные в своем духовном развитии с Западной Римской
империей, прежде всего романские и затем германские.
Исконные выражения их языков, принятые для обозначения
творчества, стали постепенно вытесняться
маг-ическими. В первую очередь это произошло у
самих римлян в латинском языке еще в дохристианское
время. Латинское imāgo стало
означать «вид, видение, изваяние, картину,
описание, подобие, призрак, привидение, сновидение,
представление, понятие, идею, притчу»;
imāginātio –
«представление, видение, сновидение,
мечтание». Обычный перевод этих слов русскими
образ и воображение совершенно неприемлем
(как будет показано ниже), а слова «призрак,
привидение, сновидение, мечтание» следует
понимать без присущего им в русском языке оттенка
сниженной подлинности.
«Имагинативные» выражения потеснили в латыни
исконные слова forma («вид, образ,
изображение, наружность, облик, фигура») и
соответственно formāre
(«изготовлять, ваять, изображать, воображать,
сочинять, упорядочивать, воспитывать, устраивать»).
Из средневековой латыни «имагинативные»
выражения распространились в новые западноевропейские
языки, сходным образом вытесняя соответствующие исконные
выражения данных языков: французское mode,
английское shape, немецкое Bild (каждое с
теми же значениями, что и латинское forma), а также
modeler, shape, bilden (как лат.
formāre).
Впрочем, отраженные в языках западноевропейских народов
коренные понятия о творчестве также весьма близки
собственно магическому пониманию, поскольку обозначают
богоподобное, демиургическое отношение человека-творца к
бытию как предмету волевой обработки. Местный языческий
магизм слился с мидийским, заимствованным через латинское
языковое посредство. Не встретив сильного противодействия
в самосознании народов и в стихии языков, магическое
мировосприятие широко и свободно распространилось на
христианском Западе.
Совершенно иначе сложилась судьба магии у греков и славян
– двух больших народов, оказавшихся
предрасположенными к принятию православного христианства.
Сама предрасположенность к Православию явилась следствием
особенной установки народного сознания на
смиренно-созерцательное восприятие жизни как благодати
Божией. Установка эта проявилась уже в язычестве, когда у
греков, например, сложилось ключевое понятие о творчестве,
которое в общих чертах удержалось и в православную эпоху.
Понятие выразилось в трех синонимах: идея
(«вид, видимость, внешность, общее свойство,
первообраз»; восходит к *идо –
«вижу, созерцаю»; родственно со славянским
вид), идос («вид, наружность, красота,
устройство, идея»), икон («икона,
изображение, отражение, подобие, вид, видение»;
восходит к ико – «имею сходство,
похожу»). Как и в славянском соотношении
однокоренных видеть –ведать, греческие
выражения (также восходящие к индоевропейскому
*u(e)id, *вед –*вид) означают
постижение внутренней сути через внешнюю явленность (при
отказе от попыток обратиться к непосредственному
постижению внутренней сути). В греческом слове
икона, более всего усвоенном православным
сознанием, этот смысл усилен развитием оттенка сравнения,
сопоставления внешних признаков разных явлений, поскольку
через такую деятельность ум человека легче распознает
внутреннюю сущность того, что сопоставляется.
На греческой почве корень *маг (*мог) не породил
собственных выражений, обозначающих творческое отношение
человека к бытию и переносящих на человека понятие
могущества (отчего собственно и начинается развитие
магии). Соответственно понятие о творчестве, восходящее к
языку мидийских магов, воспринималось как чужеродное и
недолжное, приобретая отрицательную окраску.
У славян греческий подход к видению как ведению, а вместе
с тем и к творческому постижению бытия через созерцание
его данности и сотворческое развивающее воспроизведение
(проведение через себя, а затем изведение
обратно вовне) частично выражался в словах вид,
видеть, придавать вид,
ведение, ведать. Однако оттенок
демиургического, богоравного вмешательства человека в
жизнь здесь все-таки возможен, и на этой основе сложились
вполне магические понятия «ведовства»
(колдовства), «ведьмы», «ведуна»,
«ведьмака», получившие в православное время
резко отрицательную окраску.
Более приемлемыми и гибкими оказались славянские
выражения, произведенные от корня *твор:
творити, творение, творецъ,
тварь, творило («образец»),
творительный («творческий, творящий»),
творъ («наружный вид, осанка, строение тела,
творение»), творюся («притворяюсь,
показываю вид»). Эти выражения применялись не только
для обозначения творческих возможностей Божества, но и для
обозначения таковых возможностей твари, человека.
Применительно к твари, человеку понятие творчества
обретает оттенок сотворчества, смиренного соучастия в
делах божественного творения: человек творит из тех
средств, какие ему уже даны, и настолько, насколько это
попускается свыше, причем весь ход творения предопределен
возможностями, уже заложенными в тварный мир. Подобные
оттенки значения ярко проявляются в древнейших понятиях
«творога» и «затворения» (теста);
понятие «раствора», напротив, означает
нарушение, разложение каких-то установившихся живых связей
творения до уровня разрозненных составных частей. Гибкость
корня *твор позволила производным от него
сохраниться и укрепиться в православном осмыслении
творчества.
Сопротивляясь распространению слова магия на
область творческого осмысления действительности, греки
нашли свое оценочно-снижающее соответствие для обозначения
такого рода художественного мировосприятия:
фантазия – «представление,
воображение» с постепенным развитием отрицательных
оттенков: «наружный вид, блеск»,
«призрак, привидение, пустое воображение»,
особенно в однокоренном фантазма. На
старославянский и древнерусский язык это греческое слово
переводили как «мечтание, мечта», а отнюдь не
как «воображение», в отличие от современных
греческо-русских словарей. Слово воображение имело
в древности исключительно положительное, глубоко
мистическое значение, а «мечтание»
подчеркивало призрачность и мнимость душевных метаний,
напрасную и тщетную трату творческих сил души,
устремившейся в гордом порыве не на служение Богу, а на
самоугодие, самоутверждение, служение бесам (этимология
данного слова приводит к индоевропейской основе
*meik – «мерцать, мелькать,
блестеть»; отсюда наше «мигать,
подмигивать»[17]).
В мечте видели мерцающее, иссякающее, ложное полубытие,
навеваемое от лукавого. В слове мечтати
естественно развился оттенок «околдовывать,
посылать наваждение»[18].
Стойкое сопротивление греческого и славянского языков
магическим понятиям о творчестве и мировосприятии в целом
объяснимо не только предысторией относительной языческой
праведности этих народов, но и более всего историей их
христианского, православного обращения и преображения.
Однако греки так и не выработали собственного слова,
которое бы кратко, точно и глубоко выражало суть
мистического христианского представления о творчестве и
художественном мировосприятии. А славяне в своем языке
такое слово нашли, причем, возможно, что оно было
целенаправленно создано первыми переводчиками священных
православных сочинений с греческого на славянский. Это
слово – образ.
Мистическое содержание слова образ проясняется
этимологией. Корень раз (в другой огласовке –
рез, как, например, в рез-ать)[19]
означает «прорезание», прохождение границы
между разными областями бытия, в особенности же между
внутренним духовным миром человека и внележащим,
внешним бытием. Образ оказывается местом соединения
внешнего и внутреннего миров. Этот основной уровень
значения раскрывается при сопоставлении однокоренных
слов: вы-раз-ить, из-раз-ить
(сохранилось в слове изразец; или, например, у
А.Н. Радищева в понятии «изразительной
гармонии» поэтической речи[20]),
раз-раз-иться, по-раз-ить,
с-раз-ить, за-раз-ить,
при-раз-ить («очаровать, обаять,
околдовать»[21]),
от-раз-ить, об-раз-ить (слово,
отмеченное в словаре В.И. Даля[22]
и особенно любимое Ф.М. Достоевским как глубоко
народное[23]),
во-об-раз-ить, пре-об-раз-ить
– все эти слова означаютдуховное движение
изнутри души вовне. С оттенком возвратности
(-ся) большинство перечисленных глаголов
обретает оттенок либо обратного движения извне внутрь
(поразить-ся и прочие), либо же двустороннего
движения изнутри вовне и извне внутрь – в
зависимости от общего смысла высказывания.
Славянское понятие «образа» признает внешнее
по отношению к человеку бытие как самостоятельное, лишь
частично зависящее от нашего творческого произволения и в
свою очередь воздействующее на нас. Это понятие оказалось
совершенно созвучным православному представлению о
человеке как венце творения, с одной стороны, и рабе
Божием, а также падшей твари – с другой. Особенно
глубокое содержание это понятие приобрело в свете
богословия Евангелия от Иоанна, где говорится о
возможности непосредственного богообщения: «Еще
мало, и мир ктому не видит Мене: вы же увидите Мя, яко Аз
живу, и вы живи будете. В той день уразумеете вы, яко Аз
во Отце Моем, и вы во Мне, и Аз в вас» (Ин. 14:
19–20). Мистическая жизнь
раз-ительно со-единяет
человека с Богом и со всем сущим. Все воспринимаемое нами
– это со-бытие, множество частных
со-бытий, связующих нас со всей целокупностью бытия
и с Богом-Творцом всего сущего. Наше со-участие в
жизни совершается через со-об-раж-ение и
во-об-раж-ение и проявляется,
вы-раж-ается в об-раз-ах. Так
осуществляется смиренное, мистическое сотворчество
человека с Богом: силою Самого Бога, испрашиваемой в
смиренном молитвенном настроении во время
разительного духовного общения: «Аминь аминь
глаголю вам: веруяй в Мя, дела яже Аз творю, и той
сотворит, и больша сих сотворит, яко Аз ко Отцу Моему
гряду. И еже аще что просите от Отца от имени Моем, то
сотворю: да прославится Отец в Сыне» (Ин. 14:
12–13).
Славянам, как народу словесному (словенам), оказалось
особенно близким это мистическое богословие, усматривающее
в основе творческой жизни человека, а значит и всякого
образа, словесное, личное общение с Богом, зависящее от
Бога со-общение о жизни (отсюда и наше название
веры: Право-славие, то есть Право-словие).
Не только собственно словесные, но также изобразительные,
музыкальные и прочие образы зиждутся на таком
со-общении, словесном со-об-раж-ении при их
возникновении. Само бытие человека вызвано таким образным
со-общением: Бог сотворил человека «по образу
Божию» (Быт. 1: 27).
Итак, если усвоенное Западом магическое миропонимание
определяет творчество через ту силу (магу), которая
его производит, причем сила эта безликая, и кто ею
обладает, тот и мнится богом, то православно-славянское
восприятие смещает внимание на саму сущность творимого
бытия как со-бытия и со-общения, в котором выясняется
принадлежность творческой силы исключительно Пресвятой
Троице.
Слово образ обозначает явленную осуществленность
«разительного» взаимодействия внутреннего мира
человеческой души, внешнего окружающего нас мира и Самого
Бога. Приставка об- указывает на художественную
обводку, огранку, обточку плода «разительного»
взаимодействия; на относительную завершенность и
совершенство каждого такого взаимодействия, когда
создается некая оболочка с хранящимся в ней духовным
содержанием, которое может передаваться, восприниматься,
осмысляться как уже сложившееся целое, получившее свое
полноценное выражение.
Именно православно-славянский подход к осмыслению
образного творчества как богообщения оказался способным
передать глубину мистического учения о мире и человеке. В
славянском представлении все богоданное бытие
образно, а что не-образно, то
без-образно: безобразно, лишено подлинного
существования или же мнимо образно, мечтательно.
Творческое сознание, в котором должен пребывать каждый
человек по возможности постоянно, предполагает
непрестанное напряженно-молитвенное распознание подлинных
образов и нечистых, призрачных мечтаний. В глубине каждого
подлинного образа содержится дарованный Богом источник
бесконечного духовного смысла, слышится глас Божий,
обращенный к человеку. Мистика образа предполагает
бесконечное совершенствование человеческой природы,
способной на пути общения с Богом постигать, воспринимать,
производить (во вдохновении) все новые уровни образности.
Мистическое богословие греков, конечно же, размышляло над
вопросами прямого богообщения, но не находило краткого и
точного словесного выражения для обозначения связи этого
богообщения с творчеством, потому что не видело и самой
возможности полноценного художественного выражения в этом
случае. Например, у святителя Григория Нисского читаем:
«Путь к блаженству… человеку указывает
возможность достигнуть такой меры блаженства, что о
превышающем сию меру и разум не в состоянии по
каким-нибудь догадкам и предположениям заключить что-либо,
и слово не находит, что сказать о следующем за нею по
порядку, да и самая надежда, которая во всем простирается
далее и далее, оставляя позади себя наше пожелание, как
скоро приближается к превышающему упование, остается в
бездействии, а что выше сего, то лучше
чаемого»[24].
Чем ближе к Богу, тем дальше от возможности выразить,
изобразить эту близость.
Найденные греками точные и краткие обозначения творчества
и плодов творчества (прежде всего, икон –
«вид, подобие», иказо –
«придаю вид, уподобляю, сравниваю») все-таки
существенно отличаются от славянских (образ,
изображать, воображать). Различие греческого
и славянского подходов к осмыслению знаменательно
сказалось уже в переводе библейской книги Бытия в том
месте, где повествуется о сотворении человека. Славянский
перевод: «И рече Бог: Сотворим человека по образу
Нашему и по подобию» (Быт. 1: 26) – сглаживает
шероховатость греческого источника (Септуагинты –
перевода семидесяти толковников) и углубляет содержание,
приводя его в соответствие с мистическим славянским
богословием образа. По-гречески говорится: кат
икона – «по виду, внешности,
явленности», причем в этой явленности подчеркивается
оттенок осмысленного сравнения, уподобления, что и
уточняется следующим далее синонимом: кат омиосин
– «по подобию». Если греки в осмыслении
сути Божиего творения идут от видимого, явленного к
постижению скрытой сущности, то славяне обращают внимание,
прежде всего, на особенности самого созидания этой
сущности при неотъемлемом соучастии в этом созидании
человека как венца творения и почитателя Божиих деяний.
Икона (как и вообще видимая явленность бытия) в понимании
греков оказывается одновременно и подспорьем, и в какой-то
мере преградой на пути к прямому общению с Богом, неким
осознаваемым препятствием, которое надо с молитвенным
усилием умозрительно преодолевать. В «Точном
изложении православной веры» святого Иоанна
Дамаскина в главе «Об иконах» говорится о том,
что иконы – это «краткое
напоминание»[25]
о таинственных событиях, описанных в Евангелии, в
житиях святых. Такие «изображения» могут
способствовать достижению общения с Богом, святыми, но
не являются непосредственным выражением самого этого
общения. Видимо, не удовлетворяясь таким рассудочным
отношением к иконе, русское самосознание настойчиво
называет икону образом. Именно православно-мистическое
понимание образа как живого общения со
сверхчеловеческими духовными существами (и прежде всего
с Самим Богом) послужило основанием для истолкования
смысла иконы у отца Павла Флоренского в его
«Иконостасе».
Славянское, а затем русское самосознание по-своему
пользовалось и словами, родственными по индоевропейскому
корню со словом имидж, но оценивало и употребляло
смысловые оттенки этого корня совершенно иначе, нежели в
западноевропейских языках. С одной стороны, в целом ряде
слов у нас развивалось исконное положительное значение,
указывающее на творческую способность и силу бытия,
даруемые Богом: могу, могучий, мощный, мощи, можно,
возможность[26].
С другой стороны, усвоенные через греческое посредство
слова вроде маг, магия, магический наделялись у
нас, подобно тому, как это происходило у греков даже
еще в их язычестве, преимущественно отрицательным
значением опасного и недолжного чародейства,
волхования, колдовства. В данном случае у нас, как и у
греков, развилось отрицательное, также исконное,
отмеченное уже в индийских Ведах, значение древнего
обоюдоострого корня маг. Между тем, в истории
западноевропейского сознания эта двойственность, хорошо
известная ведическому и древнегреческому язычеству,
была постепенно сведена к положительным оттенкам
смысла, отражаясь в понятии самостоятельного
человеческого творчества как «божественной»
магии, производящей новое бытие.
Наш образ по своему глубинному, отточенному в
течение веков значению, можно сказать, противоположен
западному имиджу. Употребление этих слов для
обозначения сходных по видимости проявлений
художественного мировосприятия и творчества на самом деле
открывает внимательному взгляду непримиримые различия в
сущности самих этих проявлений у нас и на Западе. Раньше,
до проникновения слова имидж в наш язык, на эти
внутренние противоречия не обращали внимания,
удовлетворяясь поверхностным сходством. Это сказывалось,
прежде всего, при толкованиях слова image в
англо-русских словарях и, соответственно, в переводах с
английского на русский. Впрочем, замечено, что
относительно новые словари уже «не ставят первым в
словарной статье слова image значение
"образ”; т.о., это значение, вероятно,
перемещается из структурного ядра на периферию, уступая
доминанту другим дефинициям»[27].
Эти перемены можно расценивать как признаки
естественного сопротивления русского языкового сознания
английскому (и вообще магическому) при осмыслении
ключевого понятия творческих способностей человека.
Примеры такого сопротивления можно найти не только в
словарных статьях, но и в живых сочинениях, например у
православно мыслящей Олеси Николаевой, которая
рассуждает так: «Что же тогда, в таком случае,
имидж? В переводе с английского это значит
"образ”, однако не всякий образ будет
имиджем, но лишь тот, который имеет знаковое значение.
<…> Имидж не есть органически присущий
(заданный) человеку образ, но некая искусственная
эстетизирующая подмена этого образа, то есть личина.
<…> Основное свойство личины – ее
пустота, лжереальность, которая и в христианстве, и в
фольклоре всегда считалась свойством всего нечистого,
лукавого и злого. Личина – это знак оборотня,
перевертыша. Имидж как раз и призван скрыть настоящее
лицо, обесценить и поставить под сомнение его
подлинность и обречь его на анонимность»[28].
Создание имиджей Олеся Николаева считает коренным
признаком искусства постмодернизма, которое соединяет
«жизнь и искусство» и тем самым напоминает
«теургический замысел Вл.
Соловьева»
Источник: http://www.pravoslavie.ru/put/34145.htm#_ftnref17 |